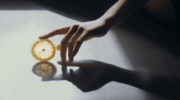До этого я жил вполне себе гладко, а тут вдруг родители всполошились:
«Как он потом?!»
И я, видя их взволнованные лица, тоже разволновался.
Ворочаясь ночами, мама вздыхала: «Боже, боже, как же он потом?!»
А я недоумевал: «Что потом-то?». Меня вполне устраивало «сейчас», а их отчего-то мучило моё призрачное «потом».
— Это у него от тебя! – выговаривала отцу расстроенная мама.
— А чего сразу от меня-то? – сходу заводился он. – Может от тебя?!
— Что ты мелешь?.. С ума сошёл?.. Как это может быть от меня?!
И опечаленный папа удалялся в спальню.
Беспартийные родители подпольно обрезали его в положенный восьмидневный срок и до сегодняшнего дня, он слыхом не слыхивал ни о каком фимозе.
А мама, между тем, продолжала вздыхать:
— Эта всё ваша недоделанная семейка. И теперь из-за неё он должен страдать!
И протягивала мне свои тёплые руки.
– Иди ко мне, мой бедный курёночек…
И курёночек шёл, не понимая сути проблемы.
Вообще-то, у ребёнка с отчеством Аронович крайней плоти не должно было наличествовать в принципе. Но поскольку мой отец был не только Ароном, но и коммунистом, крайняя плоть у меня была, да к тому же, как выяснилось, второсортная.
— А может, оно как-то само… – виновато бормотал папа.
— Как само?! – накидывалась на него мать. — Какое само? С чего это оно само?!
— Ну, не знаю. Может, разработает…
— Ой, я не могу этого слышать!
— И вообще, с чего ты всё это взяла? Ты же не доктор!
— Я медсестра, и этого добра перевидала! Говорю тебе это фимоз!
И папа снова уходил в спальню.
Он всегда так делал, когда был растерян и не находил выхода.
А доктор в белом халате пах луком, и в его мутной бородёнке засели крупинки яичного желтка. Присев на корточки, он проговорил:
— Так-с, так-с, так-с…
Я наблюдал за его белым колпаком, за торчащим вперёд клинышком бородки, и думал: «Похож на пенёк»
— Можешь закатать? – неожиданно спросил меня доктор-пенёк.
И я, хлюпнув носом, подтянул рукав.
— Он не понимает о чём вы, – сказала мама.
А доктор-пенёк изрёк:
— Ну да… Это фимоз.
И мама всплеснула руками:
— Фимоз! Боже мой, фимоз! Что же нам делать?!
— Чикнуть, – улыбнулся пенёк. — Делов-то — кот наплакал!
И мне стало обидно. И не потому, что он неуважительно отозвался о моих делах, а из-за слова «чикнуть». Значение этого глагола к тому времени я уже понимал. Каждый раз, обрезая грибную ножку, папа говорил: «Сейчас мы его чикнем и — в тазик!». А потом делал ножичком: «чик!», и, действительно, бросал обкромсанный гриб в таз с водой.
Так что моё ни в меру развитое воображение мгновенно провело параллели и нарисовало мне вполне себе страшненькую картинку, от которой я незамедлительно заплакал.
До этого все разговоры о непонятном фимозе, казались мне не более чем просто словами. Теперь же они обернулись странным копошением в животе. Мой фимоз вдруг ожил и обрёл образ. Он представился мне жутким горбатым старикашкой с огромным, как у Бармалея, ножом, и страшными-престрашными глазами.
***
Когда родители со мной прощались, я не плакал. Мама плакала, а я не понимал почему. Она столько рассказывала мне про доброго доктора Айболита, который возьмёт меня к себе, чтобы угощать сладкими конфетами, что было удивительно видеть её такой расстроенной.
В итоге меня увела тучная медсестра, показавшаяся мне скалой. Её каменная рука так крепко сжала мне запястье, что я зажмурился, исключив себя из этого мира, и отдался на волю проведения.
— Это твоя койка! – заведя меня в палату, громыхнула скала, и я, наконец, открыл глаза.
Слово «койка» мне раньше слышать не доводилось, но я сразу понял, о чём идёт речь. Впоследствии, в моей жизни было множество разнообразных коек, но та оказалась моей первой…
Моя первая «койка»!
— Проследите за ним, – пророкотала скала, обращаясь к находившимся в палате мальчишкам, и вышла, закрыв за собой дверь.
А меня обступили.
— Новенький?
И с моего кивка началась моя первая самостоятельная жизнь, исключавшая такие слова как: «мама», «папа», «дом», «семья» и прочее.
Среди обитателей палаты я оказался самым маленьким и надо мной тут же взяли шефство. Кто-то, откинув одеяло, усадил меня на «койку». Кто-то, приняв из моих рук сумку, запихал её в тумбочку.
А потом полились рассказы о внутреннем укладе отделения. Ребята говорили что-то о режиме, о врачебных обходах. Полугладя полупохлопывая меня по плечу, заверяли, что здесь, в общем-то, неплохо, и что докторов бояться не надо. А я на всё это старательно кивал и со всем соглашался.
Мальчишек было пятеро. В возрасте от семи до двенадцати. Они наперебой хвастались, что у кого болит, указывая, кто на живот, кто на горло, кто на бок. А я слушал и кивал, ни черта не понимая.
— А что у тебя-то? – спросили, наконец, мальчишки.
— Фимоз.
— Чего?!
— Фимоз, — повторил я, обдумывая, стоит ли рассказывать им про злобного, горбатого старикашку с ножом.
— Ну а болит-то где?
— Нигде.
— А чего сюда положили?
— Чтоб Айболит угощал меня конфетами, – честно ответил я.
И мальчишки покатились со смеху.
Вообще они были очень смешные и смешливые эти мальчишки. И уже очень скоро я перестал думать о маме с папой, и даже о коварном Фимозе. И спал той ночью сладко-сладко, даже не заметив, что вместо кровати у меня теперь «койка».
Спал, как может спать только пятилетний ребёнок, а проснувшись, попал прямиком… на обход.
Как звали того доктора я, конечно же, не запомнил. Память сохранила лишь его маленькие, колючие глазки да большие ладони с короткими цепкими пальцами.
Мельком осмотрев мальчиков, он приблизился ко мне и, не задавая вопросов, вроде: как тебя зовут и сколько тебя лет, попросил снять трусики.
Сперва я почувствовал холодное прикосновение, потом острую боль. Она возникла в том месте, где находились его руки, и я, закричав, попытался вырваться.
Однако доктор не дал. Лёгким тычком усадив меня на матрас, он продолжил исследование, и мои глаза превратились в родник.
Когда он закончил, меня трясло.
— Одевайся! – сухо обронил доктор, и вышел.
А бледные перепуганные мальчишки так и остались стоять, глядя на меня, как на раздавленную кошку — с откровенным ужасом и брезгливостью.
Потом их лица приняли форму сочувствия, и ко мне стали подходить — проводили по волосам, просили не плакать. А внизу у меня горел огонь.
На следующий день всё повторилось.
Те же колючие глаза, те же цепкие пальцы и полыхающее пламя нестерпимой боли. Тогда-то я впервые и узнал, что такое страх. Не боязнь чего-то неопределённого, а чётко сфокусированный на конкретном человеке страх. И глупый старикашка Фимоз исчез. Сгинул в бездонной черноте этих колючих глаз.
Теперь я точно знал чего и кого мне следовало бояться.
Скрип открывающейся двери заставлял меня замирать. От шагов в коридоре сердце моё начинало биться загнанной мышью. И я стал прятаться.
Убегая перед обходом из палаты, забивался в узенькое пространство между батареей и фикусом, и сидел там, стараясь не дышать, пока ребята отчаянно врали доктору, что не видели меня, и не знают, куда я подевался. И тогда доктор звал медсестру, что-то резко ей выговаривал, и та быстренько меня отыскивала.
Что пытался сотворить тот врач, какие цели преследовал, до сих пор остаётся для меня загадкой. Надо полагать, он надеялся разорвать срощенное и уберечь меня от лишней, на его взгляд, операции. Однако моё наказание за родительское вероотступничество, моя бракованная крайняя плоть так ему и не поддалась. И, в конце концов, меня прооперировали.
Помню липкое прикосновение резиновой маски, безликую пустоту и бесконечно долгую карусель с проблесками света под мерцающими веками.
Пробуждение было кисельно густым и тошнотворно приторным.
Мне было пять. Я лежал на казённой каталке в пустом коридоре операционного блока, и ни медсестры, ни доктора, ни нянечки рядом не было. О родителях, к тому времени, я уже и не вспоминал.
Меня мутило, знобило и кружило в хороводе сумрачных, неясных теней, и среди всего этого хаоса был только я – маленький пятилетний мальчик.
Но, как известно, законы природы жестоки и неумолимы. Они заставляют совершать действия даже при отсутствии навыков. Так что, когда мне приспичило, я кое-как спустился с каталки и побрёл в туалет.
Помню, как скользили пальцы, ощупывавшие кафельные квадратики стены. Как заплетались ноги и захлопывались тяжёлые веки. Но природа, посредством переполненного пузыря, толкала меня вперёд.
А потом она же обожгла меня новой реальностью. И от того жжения я повалился на пол.
Мне было пять, когда я впервые столкнулся с выбором между болью и ещё более сильною болью. И снова за меня всё решила природа.
А на следующий день родителям разрешили меня навестить.
Меня подвели к регистратуре, и я долго оттаивал в маминых объятьях, лопоча ей что-то про карусель и про то, что делать «пи-пи» очень больно. А вот о докторе я не упоминал.
Мама же, обнимая меня и плача, всё вздыхала:
— Это их семейка… Всё их недоделанная семейка…
***
И когда, через четверть века, моя жена сказала мне:
— Я этого не вынесу!.. Я не понимаю, зачем всё это нужно!
Я, глядя, на своего, облаченного в талит, отца, держащего на руках восьмидневного внука, ответил ей:
— Тебе и не нужно. Просто поверь, так лучше!
И повторив за моэлем сакральные слова молитвы, вдруг подумал о том, что вот сейчас, прямо у меня на глазах, нашу недоделанную семейку, наконец-то доделывают.
Подумал и улыбнулся.
Эдуард Резник